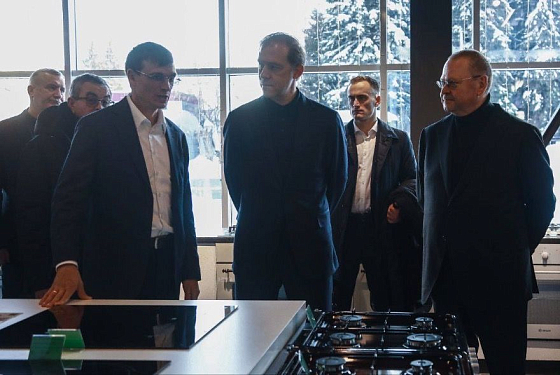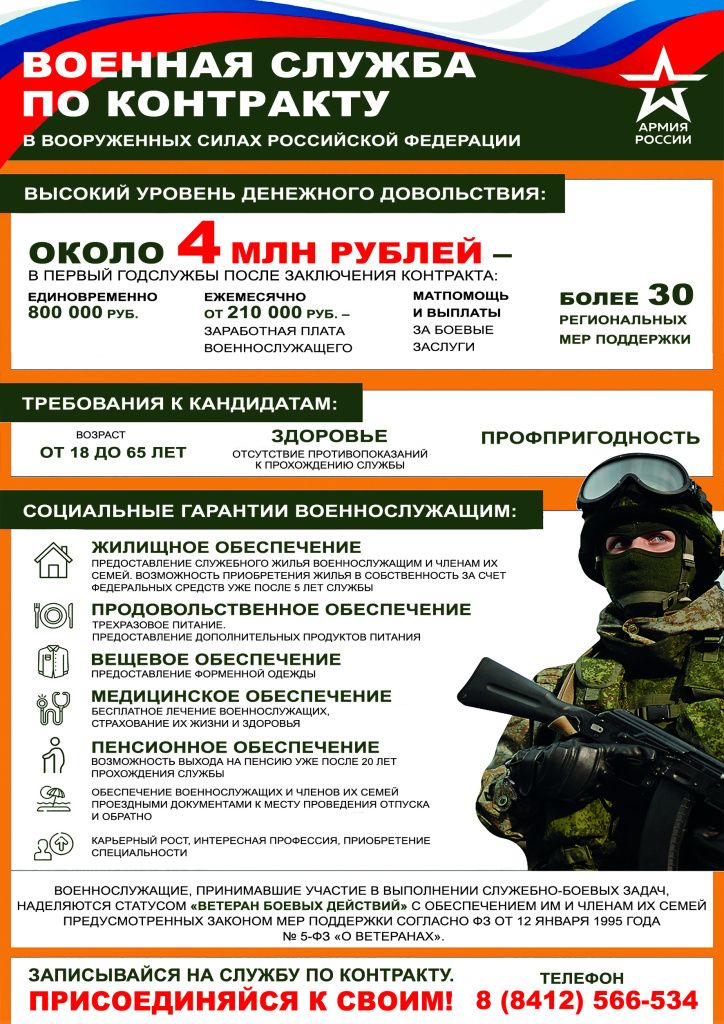Единственный монах: пензенский священник показал спасенную от уничтожения старинную икону
– Да не отшельник я, и от людей не прячусь, – с легкой усмешкой говорит настоятель Вьясской Владимирско-Богородицкой пустыни, что в Большом Вьясе Лунинского района, иеромонах Нифонт (Бусыгин). – Просто сложилось так. Видно, мало желающих монашествовать в отдаленном селе. Трудники приходят и уходят, сменяя друг друга, а вот чтобы остаться насовсем и принять постриг – такого за время моего настоятельства еще не было.
Признаюсь, при словах «пустынь» и «единственный монах, он же настоятель» мне представился отдаленный от бренного мира скит и старец, похожий если не на древнерусских отшельников, то на иеромонаха Романа (Матюшина), известного автора-исполнителя духовных стихов и песнопений, проведшего в уединении и безмолвии около восьми лет.
А перед нами предстал молодой мужчина, энергичный, общительный, с хорошим чувством юмора. Вот когда начинаешь понимать выражение «монахи – люди радостные»! Да и сама Владимирско-Богородицкая пустынь расположена в центральной части Большого Вьяса, открыта для всех нуждающихся в духовном окормлении.

На все четыре стороны
Отец Нифонт подвизается в пустыни около десяти лет, придя на смену игумену Христофору (Ширяеву), который сейчас служит настоятелем Сергиевского храма в Соловцовке, где покоятся мощи священноисповедника Иоанна Оленевского, любимого святого Пензенской земли.Родом батюшка из Сибири, но юношеские годы провел в Пензе, где учился в ПГУ на специалиста по информатике и вычислительной технике. Чуть позже в Сурский край перебрались и его родители, имеющие здесь корни.
К вере он пришел в институтские годы, а вскоре в душе появилось желание понести иноческий подвиг.
Хотел было бросить учебу и уйти в монастырь, но не смог противиться родительской воле: «Сначала высшее образование получи, а потом хоть на все четыре стороны иди».
– Я так и поступил: окончил институт и пошел на все четыре стороны, – смеется отец Нифонт. – Кстати, нисколько не жалею, что не бросил учебу. Высшее IT-образование мне очень пригодилось. Например, в бухгалтерских делах, когда пришлось освоить программу «1C- бухгалтерия» (как настоятель я должен вести финансовый учет).
Что ж, это привычное для сельского священника состояние – не только выступать проповедником веры, но и исполнять целый ряд послушаний, напрямую не связанных со служением. Порой самому приходится выступать и прорабом, и специалистом по снабжению, и садоводом.
...Отец Нифонт мерит шагами землю возле храма Владимирской иконы Божией Матери, где двое трудников копают лунки под яблоневые саженцы.
– Вот, решили садик небольшой разбить. Давным-давно здесь был большой монастырь с богатым приусадебным хозяйством, тремя церквями, фонтанами, мраморными лестницами… Ну а мы лишь пытаемся сохранить то немногое, что от него осталось, и возродить монашескую жизнь.
Чудотворная икона
Есть у отца Нифонта еще одна очень важная миссия – он является, по сути, хранителем чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, с которой началась история монастыря.Как гласит предание, в конце XVII века в лесу у реки Вьяс появились два монаха-странника Иоанн и Тихон с образом Богородицы. В чаще над источником построили часовенку и несколько келий, в которых позднее в уединении подвизались богомольцы.
Ту самую икону с петровских времен почитали как чудотворную и исцеляющую. Известно, что во время эпидемии холеры 1830 года Вьясский Владимирский образ Божией Матери крестным ходом принесли в Пензу – и болезнь отступила.
Многое пришлось пережить обители за несколько столетий, не однажды находилась она на грани закрытия, но Божия Матерь хранила ее.
Перед Первой мировой войной братия монастыря насчитывала более 50 человек, пустынь процветала.
После революции 1917 года практически все обители Пензенской губернии были закрыты, но во Вьясе монашеская жизнь теплилась до 1925 года, а затем монастырь начали планомерно стирать с лица земли. Иконы и богослужебные книги сжигали прямо у святых стен. Чудотворный Владимирский образ Богородицы бесследно исчез – люди полагали, что сгорел в том адском пламени.
Но совсем недавно мы стояли перед святым ликом и не верили своим глазам: неужели это тот самый образ, прошедший сквозь века и восставший, как феникс из пепла?
Спокойный и ласковый материнский взгляд Богородицы, прижавшей младенца Христа к щеке, как будто повторяет слова Господа: «Не бойся, только веруй».
Нижняя часть образа украшена нательными крестиками и женскими колечками – свидетельство того, что и в наши дни он являет чудеса, а люди таким наивным способом выражают свою благодарность.
– С Божией помощью обитель вновь обрела свою святыню в 2010 году, спустя 14 лет с начала своего восстановления, – рассказывает отец Нифонт. – Икону в своем доме уберегла от поругания жительница соседнего Лесного Вьяса Пелагия Майорова. Она передала святыню своей односельчанке Марии Морозовой, сохранившей образ до 1996 года, когда в Лесном Вьясе открылся храм великомученика Димитрия Солунского. Благочестивая женщина принесла икону туда.
В 2010 году тогдашний настоятель Большевьясского Владимирско-Богородицкого храма игумен Христофор услышал эту удивительную историю. Он передал икону на экспертизу, и после долгих исследований стало ясно, что это тот самый образ, считавшийся безвозвратно утерянным.
Автор: Наталья СИЗОВА
Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER
Ссылки по теме
Другие материалы рубрики

Лошади, пони, бельчонок и кот: история матушки Валентины Соловьевой из Леонидовки
В нашем представлении жена священника – это образец православной женщины – скромная, многодетная, послушная, верная соратница своего мужа
Пензенская прокуратура проверит обеспечение лекарствами онкобольных
Надзорное ведомство готово принять все необходимые меры
В мероприятиях Общества «Знание» приняли участие более 25 тысяч пензенцев
Под эгидой просветительской организации выступают более 80 лекторов из Пензенской области
Полимочевина: почему она превосходит традиционные гидроизоляционные материалы
Уже через 20-30 секунд после нанесения по покрытию можно ходитьВ Пензе спортивный врач Семенова озвучила пользу 4 зимних видов спорта
Рассказываем, что это за вида и чем они так полезны